Главная  Библиотека
Библиотека  Дань любви. Воспоминания о юных днях, о прежней жизни, о дорогих и близких людях. Часть 1
Дань любви. Воспоминания о юных днях, о прежней жизни, о дорогих и близких людях. Часть 1
Дань любви.
Воспоминания о юных днях,
о прежней жизни,
о дорогих и близких людях.
Часть 1
Елена Андрущенко
Санкт-Петербург
Допущено к распространению
Издательским Советом Русской Православной Церкви
ИС Р23-301-0028
Последнее обновление страницы: 14.07.2024 14:06:54
Отзывы о книге можно направлять авторам на их страницу во «ВКонтакте»:
https://vk.com/naa_len,
а также на электронную почту, указанную в нижней части сайта.
Туда же можно обращаться по поводу приобретения книги.
- Рецензии на книгу «Дань любви»:
Кто не умилится сердцем, вспоминая свои детские годы, когда чистая душа доверчиво распахивается навстречу прекрасному и доброму, когда стирается грань между обыденным и чудесным, когда каждый новый день приносит новые откровения! Кого не впечатляли рассказы старших о былой жизни – и радостной, и тревожной, и зачастую даже трагичной!
Загляните в книгу «Дань любви» – и увидите себя в детстве, и узнаете по воспоминаниям живых свидетелей о том, как жила русская деревня в зарубежье в 30-е годы прошлого столетия, не затронутая революционными потрясениями. Как нелегка была доля священнических семей, оказавшихся в вынужденной эмиграции, и какова была в те страшные годы участь их родных, оставшихся в России. Но ничто не поколебало твёрдых духом людей, не утратили они своей любви к ближним, не перестали от сокровищ сердец своих износить доброе.
На страницах книги много светлого и радостного, вдохновляющего на подвиг жизни и на благодарение всё премудро устрояющему Богу.
Книга рассказывает о судьбе семьи Лавровых: Марии Андреевны, в девичестве Абрютиной, её супруга Александра Михайловича, вступившего на путь священнического служения накануне октябрьских событий 1917 года, их детей. Как и многим нашим соотечественникам, Лавровым пришлось испытать немало трудностей, скорбей и лишений революционного времени, вынужденную эмиграцию, немецкую оккупацию в Великую Отечественную войну. Несмотря на пережитые невзгоды, утрату большинства детей, Мария Андреевна, дожив до глубокой старости, сохраняла крепость духа, доброе отношение к людям, радостное восприятие жизни.
Описываемые события происходят преимущественно в период с конца XIX века до наших дней. Географически повествование охватывает в основном восточную часть Эстонии: северное и западное Причудье и Принаровье, столицу Эстонской Республики Таллинн, а также Санкт-Петербург и некоторые уезды Петербургской, Новгородской, Смоленской губерний.
Издание содержит исторические сведения и бытовые подробности жизни людей в прежнее время и иллюстрируется большим количеством фотографий.
Книга в электронном виде
| В постраничном виде | Разворотами | |
 |
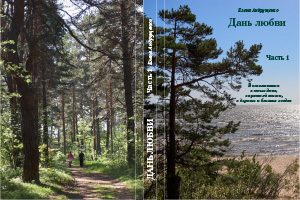 |
Содержание
 Увеличить
Увеличить
Елена Никитична Лаврова (23 года)
с бабушкой Марией Андреевной
Лавровой (85 лет).
Конец мая – начало июня 1982 г.

